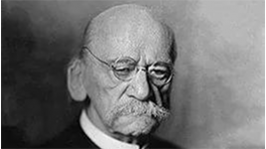Закон Вагнера (з.в.) (Wagner’s law) – это обобщенное утверждение, согласно которому государственные расходы растут ускоренно по сравнению с национальной экономикой и, в частности, по сравнению с объемом национального производства или валовым внутренним продуктом (ВВП).
З.в. был впервые сформулирован немецким экономистом Адольфом Вагнером (Adolph Wagner) в 1892 г., а впоследствии – в 1958 г. – популяризирован американскими учеными-финансистами Ричардом Масгрейвом (Richard Musgrave) и Аланом Пикоком (Alan Peacock). Сегодня в литературе фигурирует множество разных, но, по сути, эквивалентных формулировок з.в.
Простейшая формализация з.в. может быть представлена в виде следующей степенной зависимости:
.png) (1)
(1)
где X – объем валового внутреннего продукта (ВВП), G – величина государственных расходов, m и θ – параметры, причем m>0, а θ>1. Для простоты можно предполагать m=1.
Таким образом, з.в. постулирует существование зависимости (1) с параметром θ>1, что и означает эффект ускорения роста государственных расходов по сравнению с ВВП. Такая зависимость называется кривой Вагнера и представлена на рис.1.
.png)
Если ввести в рассмотрение показатель эластичности (Е) государственных расходов (G) по ВВП (X) Е=(X/G)(dG/dX), то з.в. можно сформулировать так: эластичность государственных расходов по ВВП больше единицы: Е>1. Несложно показать, что при m=1 справедливо равенство Е=θ, тем самым обе формулировки з.в. являются эквивалентными.
Еще одна формулировка з.в. предполагает постулирование тенденции роста доли государственных расходов в ВВП. Формализация этого принципа означает выполнение следующего неравенства: dg/dt>0, где g=G/X – доля государственных расходов в ВВП, t – время. Дифференцирование по времени переменной g приводит к условию: Е>1, т.е. и эта формулировка з.в. эквивалентна предыдущим двум.
Если неравенство Е>1 переписать в дискретной форме темпов прироста, то получим выражение:
.png) (2)
(2)
где в квадратных скобках стоят темпы прироста соответствующих величин. Из соотношения (2) видно, что темпы прироста государственных расходов превосходят темпы прироста ВВП. Следовательно, это еще одна формулировка з.в.
Таким образом, согласно з.в., экономический рост выступает не просто в качестве фактора формирования величины государственных расходов, но и в качестве ускорителя ее роста. Данное обстоятельство позволяет некоторым исследователям трактовать з.в. как частный случай эффекта храповика.
Изначально з.в. был сформулирован не как теоретическое положение, имеющее под собой глубинную экономическую мотивацию хозяйствующих субъектов, а как эмпирическая закономерность, подтверждаемая статистическими данными. Агрегированные расчеты, осуществленные Томасом Кьюсаком (Thomas Cusack) и Сьюзан Фьюкс (Susanne Fuchs) для некоторых стран, приведены в табл.1, из которой видно, что на протяжении 125 лет во всем мире имела место единообразная тенденция роста доли государственных расходов в ВВП. Наличие такого устойчивого тренда привело к тому, что з.в. долгое время считался чуть ли не самым незыблемым экономическим законом.
Таблица 1. Параметры государственных расходов ведущих стран мира.
|
Страны мира |
Доля государственных расходов в ВВП, % |
||
|
1870 |
1970 |
1995 |
|
|
Канада |
6,2 |
35,8 |
48,1 |
|
Австрия |
11,4 |
35,3 |
51,5 |
|
Франция |
11,0 |
37,7 |
54,1 |
|
Германия |
9,5 |
36,9 |
47,7 |
|
Италия |
14,4 |
31,7 |
51,8 |
|
Япония |
8,8 |
18,6 |
36,1 |
|
Норвегия |
5,9 |
41,3 |
49,0 |
|
Швеция |
5,7 |
42,8 |
67,0 |
|
Великобритания |
8,7 |
37,8 |
44,2 |
|
США |
8,3 |
33,7 |
36,1 |
З.в. представляет собой очевидную теоретическую проблему. Это связано с тем обстоятельством, что если допустить, что з.в. будет действовать достаточно долгое время, то доля государственных расходов теоретически может достигнуть 1 (или 100%). Это означает, что и налоговое бремя, выраженное в виде отношения собранных налогов к ВВП, при прочих равных условиях также будет равно 1. Следовательно, в пределе з.в. ведет к становлению экономического коммунизма, когда весь доход субъектов изымается в форме налогов в государственную казну, а потом централизованно распределяется на общественные нужды. Такого рода экономическая сингулярность, означающая фактическое упразднение частного сектора, представляется нереалистичной, в связи с чем возникает вопрос о радиусе действия з.в. Такого рода рассуждения инициируют постоянную перепроверку з.в., для чего используются эконометрические модели и тесты.
На практике проверка з.в. сводится к эконометрической оценке показателя эластичности θ. Для этого используется эконометрическая модель следующего вида:
.png) (3)
(3)
где a0, bi и cj – параметры модели, оцениваемые статистически; t – индекс времени (года); Yj – j-ый фактор, влияющий на динамику государственных расходов.
В модели (3) фигурируют временные лаги между государственными расходами и ВВП, величина которых может доходить до 5 лет. Кроме того, помимо фактора ВВП учитываются другие факторы, от которых зависит бюджетная политика и число которых достигает 3–4 переменных. Наконец, все исходные переменные модели логарифмируются, чтобы было удобнее вычислять показатель эластичности θ.
При такой структуре модели возникает необходимость оценки долгосрочной эластичности θ*, которая аккумулирует все текущие и прошлые изменения ВВП, повлиявшие на величину государственных расходов в данный момент времени. В этом случае формула для вычисления долгосрочной эластичности имеет вид:
.png) (4)
(4)
Правило тестирования з.в. сохраняется: при θ*>1 закон Вагнера выполняется; в противном случае считается, что он нарушается. Исследование указанной дихотомии и составляет основной предмет дискуссии экономистов по поводу закона Вагнера в современном мире.
В последнее время тестирование з.в. усиливается тестом Грейнджера на наличие причинности между государственными расходами и ВВП.
На практике используются различные модификации модели (3). Например, часто используют как текущие, так и реальные (дефлированные) агрегаты G и X, а также их душевые аналоги.
Наличием разнообразных подходов и методик к оценке з.в. обусловлена неоднозначность получаемых результатов. Как правило, споры ведутся по поводу справедливости з.в. применительно к отдельным странам на определенных временных участках. Общий вывод всех тестов сводится к следующему: з.в. имеет локальный во времени радиус действия и выполняется для всех стран в основном на ранних этапах экономического развития. По мере достижения зрелости государственных институтов страны з.в. нарушается и теряет свое значение. В такие моменты происходит инверсия причинно-следственных связей – ВВП из объясняющей переменной, влияющей на масштаб государственных расходов, превращается в объясняемую величину, испытывающую воздействие со стороны политики государственных расходов. Такого рода зависимость описывается в частности кривой Арми–Рана, показывающей зависимость темпов роста ВВП от доли государственных расходов. Наложение з.в. и кривой Арми–Рана приводит к так называемому парадоксу богатства.
Проведенные эконометрические расчеты для разных интервалов времени вскрывают эволюционную природу з.в.: с течением времени эластичность θ для рассматриваемой страны уменьшается. В России на временном интервале 1993–2008 гг. з.в. не действовал.
В настоящее время существует ряд теоретических моделей (гипотез), которые объясняют возникновение з.в. и раскрывают механизм его реализации. Эти теории находят эмпирическое подтверждение, но ни одна из них не претендует на исчерпывающее описание з.в. Наиболее популярными объяснительными теориями з.в. являются следующие три.
Теория внутренних экономических факторов рассматривает два сектора экономики – производство частных и общественных благ – и утверждает, что эластичность спроса по доходу для сектора общественных благ выше, чем для сектора частных благ. Это означает, что при росте дохода населения спрос на услуги образования, здравоохранения, полиции и т.п. растет быстрее, чем на традиционные товары. Согласно оценкам Т.Е.Борчердинга (T.E.Borcherding), эффект от роста населения, цен и доходов объясняет примерно 50% наблюдаемого роста доли государственных расходов в США в 1978 г.
В рамках данного направления получила широкое распространение теория сравнительных издержек У.Дж.Баумоля (W.J.Baumol), которая рассматривает два сектора экономики – технологически прогрессивный и стагнирующий – и утверждает, что частный сектор является прогрессивным, а сектор государственных услуг – стагнирующим. Расчеты Д.Ф.Брэдфорда (D.F.Bradford) и его коллег показали, что издержки на одного ученика в государственных начальных и средних школах США в период 1947–1967 гг. возрастали среднегодовым темпом 6,7%, а издержки производства аграрной и промышленной продукции – 1,4%. Согласно оценкам Р.М.Шпанна (R.M.Spann), теория Баумоля объясняет примерно 32–42% прироста душевых государственных расходов в США 1950–1960-х годов.
Теория внутренних политических факторов рассматривает конкуренцию политических групп, в результате которой бюрократия, в ведении которой находится сектор государственных услуг, проводит решения о повышении налогообложения и увеличении государственных расходов. Одна из причин такого исхода конкуренции состоит в существовании фискальных иллюзий, в соответствии с которыми избиратели не распознают угрозы повышения налогов при реализации разных социальных мероприятий и голосуют за соответствующие политические программы. Согласно оценкам С.Пельцмана (S.Peltzman), в большинстве стран просматривается тесная связь между ростом среднего класса и связанного с этим выравнивания неравенства в доходах и ростом государственных расходов.
Теория экзогенных факторов акцентирует внимание на крупномасштабных социальных потрясениях типа войн и депрессий, которые изменяют представления людей о пределах налогообложения и государственных расходов. В результате возникает эффект смещения (displacement effect), когда установившаяся более высокая доля государственных расходов со временем уже не возвращается на прежний уровень, а закрепляется на более высокой отметке. Например, в Великобритании доля государственных расходов в ВВП с 1860 г. до Первой мировой войны сохранялась в районе 10%, а во время войны подскочила до 50%; с 1920 до Второй мировой войны этот показатель стабилизировался на уровне 20–25%, а во время войны превысил 50%, после чего стал колебаться в диапазоне 30–50%.
Литература
1. Афанасьев М.П., Афанасьев Я.М. Методологические и теоретические основы формулировки закона А.Вагнера. Подходы к его тестированию// «Вопросы государственного и муниципального управления», №3, 2009. С.47–70.
2. Балацкий Е.В. Закон Вагнера, кривая Арми–Рана и парадокс богатства// «Общество и экономика», №9, 2010. С.80–97.
3. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Налогово-бюджетная политика и экономический рост// «Общество и экономика», №4-5, 2011. С.197–214.
4. Панорама экономической мысли конца XX столетия/ Под ред. Д.Гринэуэя, М.Блини, И.Стюарта: в 2-х т. СПб.: Экономическая школа, 2002. Т.1. XVI+668 с.
5. Baumol W.J. Macroeconomics of unbalanced growth// «American Economic Review», 1967. Vol.57. P.415–426.
6. Borcherding T.E. The causes of government growth: a survey of U.S. evidence// «Journal of Public Economics», 1985. Vol.28. P.359–382.
7. Bradford D.F., Malt R.A., Oates W.E. The rising cost of local public services: some evidence and reflections// «National Tax Journal», 1969. Vol.22. P.185–202.
8. Cusack T., Fuchs S. Ideology, Institutions, and Public Spending. Discussion paper, Berlin, 2002. 46 p.
9. Musgrave R., Peacock A. (ed.) Classics in the Theory of Public Finance. L.: Macmillan, 1958. 244 p.
10. Peltzman S. The growth of government// «Journal of Law and Economics», 1980. Vol.23. P.209–287.
11. Spann R.M. The macroeconomics of unbalanced growth and the expending public sector: some simple tests of a model of government growth// «Journal of Public Economics», 1977. Vol.2. P.397–404.
Официальная ссылка на статью:
Балацкий Е.В. Закон Вагнера/ Энциклопедия теоретических основ налогообложения/ Под ред. И.А.Майбурова, Ю.Б.Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С.55–59.