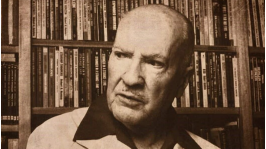Пьеса Александра Грибоедова «Горе от ума» написана в той особой манере, которая не позволяет однозначно определить литературный жанр данного произведения. Сам Грибоедов назвал свое творение комедией в стихах. И это отчасти верно. Современники же писателя охарактеризовали пьесу «Горе от ума» как высокую комедию. И это также отчасти верно. Правда же состоит в том, что Александр Грибоедов сознательно смешал разные жанры и сюжетные линии под «прикрытием» комедии – обманчиво простой литературной формы.
Первое нарушение правил комедии состоит в драматичных переживаниях Софьи и Чацкого в отношении своих избранников – Молчалина и Софьи соответственно. Второй «проступок» против жанра заключается в том, что бурные чувства Софьи и Чацкого завершаются глубоким разочарованием в своих избранниках, которое распространяется на все окружающее их общество, а затем и на всю жизнь. Третье «преступление» против комедийного «закона» подстерегает читателя в финале пьесы, который никак не подпадает под категорию счастливого конца. Итог произведения весьма печален – глубокое разочарование главного героя (Чацкого) в людях и нравственных идеалах.
Именно этот последний аккорд «Горя от ума» и оправдывает название пьесы. Тем самым к сладости стихотворной комедии Грибоедов добавляет горечь драмы. Но и этого писателю показалось мало, и он привносит в сюжет элементы социальной сатиры. Он откровенно куражится над плутовскими повадками своих персонажей (А.А.Загорецкий), высмеивает их безграмотность (С.С.Скалозуб) и вульгарность (А.С.Молчалин), презирает их бездуховность (семья Тугоуховских) и общественные нормы поведения (П.А.Фамусов). Все это добавляет привкус кислого в и без того густо замешанную сладко-горькую жанровую смесь. И в этот художественный винегрет Грибоедов еще подсыпает горсть острого перца в виде основного рефрена произведения – мучения просвещенного интеллектуала. Эта сюжетная линия книги берет начало в библейской мудрости, высказанной легендарным царем Соломоном: «много знаний – много печали». Столь явная связь идеи пьесы с древней философией окончательно перечеркивает ее изначально игривый характер – книга приобретает монументальный характер с характерными звуками вечности.
Поистине поразительным фактом является то, что, создав многоплановую литературную смесь, Александр Грибоедов не нарушил стихотворную легкость своей комедии и все-таки сумел остаться в рамках этого жанра.
Как ему это удалось?
Ответ лежит в специфике личности самого Грибоедова. Вспомним, что помимо всего прочего он был пианистом-любителем, который оставил своим потомкам два великолепных фортепианных вальса. Причем эти вальсы обладают теми же качествами, что и его литературная пьеса – изяществом, легкостью, блеском и глубиной. Видимо, все эти качества органично уживались в душе Грибоедова и естественным образом переносились в его произведения – как литературные, так и музыкальные.
Нельзя не отметить и другое – нотки трагизма в его произведениях. Они не слишком акцентируются, не выпячиваются, но незримо присутствуют. И это «послевкусие» также неразрывно связано с личностью Александра Грибоедова, ведь его блестящая служба и судьба рано прервались – в 34 года он был растерзан толпой религиозных фанатиков в Персии. Трагизм жизни Грибоедова простирается за ее пределы и выражен в скорбном панегирике ему от его горячо любимой жены Нино Чавчавадзе: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»
Такой человек, проживший такую жизнь, просто не мог вместить свой многогранный талант в пьесу какого-то одного жанра. Выход из положения один – создать оригинальное многожанровое литературное произведение. И Александр Грибоедов прекрасно справился с этой задачей.
Официальная ссылка на статью:
Балацкая Я.Е. «Горе от ума»: драма или комедия?// «Неэргодическая экономика», 02.11.2016.