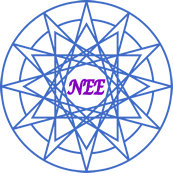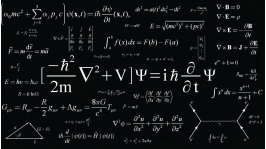1. Введение
Крушение Советского и Союза в 1991 году дало мощный импульс к осмыслению многих социальных явлений. Причем этот процесс охватил как западную, так и российскую экономическую науку. В связи с тем, что сама рыночная экономика России после существования плановой системы СССР представляла собой некую переходную форму, а трансформация одной формации (социализма) в другую (капитализм) являла некий переходный режим функционирования системы, то изучение всех «переходных» явлений испытало своеобразный научный Ренессанс.
Главной линией указанного сдвига интересов экономистов, быстро превратившегося в модное научное направление, стал институционализм, который оперировал нормами и правилами поведения больших масс людей. Этому способствовали два обстоятельства. Во-первых, главной причиной экономических неудач постсоциалистических стран являлась неэффективная система управления, которая ответственна за формирование тех или иных институтов. Во-вторых, институциональная экономика имела дело с качественными явлениями и изначально не предполагала широкого применения сложного модельного инструментария, что делало это направление более доступным для российских экономистов, особенно для политэкономов старой школы.
Логичным результатом указанного состояния дел стал шквал институциональных, квази– и превдоинституциональных исследований, выходящих из-под пера российских экономистов. Следствием подобной научной активности стала крайне противоречивая ситуация. С одной стороны, именно российская школа институционализма стала чуть ли не мировым лидером данного научного направления в силу непосредственной включенности исследователей в наблюдение разнообразных институциональных аномалий, с другой стороны – появилось огромное количество «пустых» работ, которые образовали своеобразный «информационный спам» современной институциональной мысли.
С некоторой степенью условности можно говорить, что началом продуктивного этапа институциональных исследований в России стал 1999 год, когда вышла в свет хрестоматийная статья В. Полтеровича об институциональных ловушках (ИЛ) (Полтерович, 1999). После этого статьи институционального содержания массово посыпались как из рога изобилия, в том числе те, которые использовали в качестве рабочего инструмента введенный В. Полтеровичем в оборот термин «ИЛ». Своеобразным итогом 20–летнего периода подобной научной лихорадки стала статья А. Верникова о самой правомерности или, наоборот, неправомерности использования категории ИЛ (Верников, 2020).
Надо сказать, что указанная статья А. Верникова носит откровенно провокативный характер и предполагает, что на нее должен последовать ответ или хотя бы развернутый комментарий. Именно такой ответ и составляет содержание данной статьи.
Если резюмировать выводы статьи (Верников, 2020), то они сводятся к нескольким тезисам. Первый – в научной литературе понятие ИЛ используется крайне вольно и некорректно, что лишь запутывает научную общественность. Второе – данное негативное положение дел вызвано самой спецификой понятия ИЛ, которое является красивой метафорой, но не содержит в себе необходимой научной строгости, что и не позволяет его трактовать как полноценную научную категорию. Третье – ситуацию следует исправить либо за счет повышения научной строгости понятия ИЛ, либо путем его научного остракизма в форме запрета его использования в академических изданиях, учебных курсах и т.д.
Ниже я последовательно рассмотрю правомерность перечисленных тезисов с необходимыми комментариями.
2. Новый термин и его распространение
Говоря о термине ИЛ, нельзя отрицать его крайнюю популярность. В работе (Балацкий, 2012) подробно рассматривались причины подобной популярности, среди которых, безусловно, достойное место занимает звучность самого термина и его метафоричность. Логично, что термин, родившийся в России, и популярность в нашей стране обрел гораздо большую, чем за рубежом, о чем упоминал А. Верников. Однако даже для российского информационного пространства дело обстоит не так уж однозначно. Например, можно предположить, что успех и известность теории ИЛ (ТИЛ) являются гипертрофированными по причине метафоричности и экзотичности лежащего в ее основании термина – ИЛ. Однако это не совсем так. В подтверждение своих слов приведем следующие данные.
Воспользовавшись поисковой системой Google, на момент 14.08.2020 можно увидеть следующую картину: на термин ИЛ выдается 224 тыс. источников, на термин «трансакционные издержки» – 153 тыс., на введенные В. Полтеровичем термины «трансформационные издержки» – 29 тыс., «трансплантация институтов» – 245 тыс., «институциональные траектории» – 432 тыс. Тем самым палитра институциональных категорий довольно обширна и понятие ИЛ в этом множестве отнюдь не доминирует, уступая, например, такому авторскому термину, как «трансплантация институтов».
Приведенные данные не стоит переоценивать, но все–таки они позволяют утверждать, что термин ИЛ отнюдь не обладает свойством гипертрофированной популярности на фоне других институциональных понятий, введенных В. Полтеровичем, а опасения А. Верникова о разрушительном характере повального использования этого ходового термина являются преувеличенными. Наоборот, складывается впечатление, что данный термин занял вполне естественное и справедливое место в иерархии аналитического аппарата институциональной экономики.
Что касается западной линии исследования ИЛ, то здесь, с одной стороны, имеет место признание соответствующего направления экономического анализа и его развитие, с другой – отсутствует методологическое единство исследований и однозначность самого понятия. Например, С. Базер под ИЛ понимает последовательность неуместных регулятивных шагов, которые увеличивают издержки институциональной трансформации до уровня, при котором неэффективные структуры могут оставаться стабильными, несмотря на изменения во внешней экономической среде (Buzar, 2009). Такое понимание ИЛ не соответствует российской традиции, внося совершенно новые аранжировки в исходное понятие. При этом прикладной анализ для Чехии относительно ИЛ, возникающей при реструктуризации государственной политики контроля за арендой и социального обеспечения, показывает, что устойчивость ловушки обеспечивается на трех вложенных контурах: геометрии власти постсоциалистических реформ, географии цен на жилье и социальное обеспечение, модели потребления неблагополучных домохозяйств. Тем самым прикладная направленность статьи предполагает комплексное решение рассматриваемой проблемы, хотя и оперирует нестрогим понятием ИЛ (Buzar, 2009).
Не менее пронзительной является статья (Hatzis, 2018), в которой автор утверждает, что первопричиной греческого кризиса 2008–2010 гг. стал институциональный дефицит, состоящий в отсутствии эффективной институциональной базы для экономического роста. Предлагая замену в Греции экстрактивных институтов на инклюзивные, автор подчеркивает, что этот переход будет трудным, поскольку Греция попала в ИЛ: влиятельные группы используют свою политическую власть для сохранения своей ренты, подрывают любые реформы и внедрение инклюзивных институтов (Hatzis, 2018). В данном случае автор также не вполне корректно использует термин ИЛ, рассматривая сложившуюся систему экстрактивных институтов и гипотетическую – и пока не существующую в стране – систему инклюзивных институтов. Кроме того, эффективность инклюзивных институтов декларируется, но детально не поясняется.
В статье М. Грэдстайна рассматриваются два альтернативных пути развития страны: концентрация политической и экономической власти, низкокачественные институты и медленный рост; более равномерное распределение политических и экономических ресурсов, высококачественные институты и более быстрый рост. Суть ИЛ состоит в том, что первый вариант развития тяготеет к самоподдерживанию, а предлагаемая автором аналитическая модель позволяет определить условия, обеспечивающие переход ко второму сценарию развития (Gradstein, 2008). Тем самым в данном исследовании ИЛ рассматривается в максимально обобщенном виде – как главенство экстрактивных институтов на фоне опять-таки гипотетических инклюзивных норм.
В последнее время активизируются продуктивные исследования развития стран африканского континента сквозь призму понятия ИЛ. Так, в 1980–е годы наметился концептуальный переход от парадигмы "правительства" (government) к парадигме "управления" (governance), навязанной африканским странам международными структурами. Вместо «хищного правительства» была предложена концепция «благого управления», которая предполагает доминирование неолиберализма. Зависимость африканских стран от международных финансовых структур превращает концепцию «благого управления» в инструмент закрепления сложившейся ситуации. Иными словами, международные институциональные стандарты играют роль опоры в практике либерального регулирования, отказаться от которых в пользу более адекватного государственного управления весьма проблематично (Olanya, 2016). Другое направление в дискуссиях о развитии Африки связано с парадигмой, согласно которой существуют взаимоусиливающие связи между безопасностью/миром и управлением, с одной стороны, и развитием – с другой. Принятый в 2001 году план развития стран Африканского Союза содержит добровольно установленные условия в отношении безопасности и управления для достижения социально-экономического развития. Однако, хотя базовая связка «безопасность–управление–развитие» присутствует в планах развития африканских государств, существует ряд препятствий, мешающих ее воплощению в реальность и формирующих ИЛ (Delaila, Zondi, 2020). В данном случае ИЛ опять-таки трактуется слишком вольно и широко.
Нельзя не отметить и фундированные издания, посвященные популярной в настоящее время «ловушке неравенства». Например, коллектив авторов из Мирового банка посвятил этому явлению целую книгу (Institutional pathways…, 2008). Более того, 2-ая часть книги имеет характерное название – «Ловушки неравенства и институционализированное неравенство» (Inequality Traps and Institutionalized Inequities). В фокусе внимания авторов оказались самые разные страны – от Испании, Индии, Бангладеш, Боливии и Бразилии до Эквадора и Уганды (Institutional pathways…, 2008). Используемый авторами термин ИЛ соответствует российскому стандарту.
Не менее симптоматичной выступает экологическая тема в проблематике ИЛ. В частности, группой авторов рассматривалась проблема уязвимости Таиланда к наводнениям и изменениям климата. Так как формальные и неформальные институты определяют способность индивидов и социальных групп реагировать на природные катаклизмы, то авторы исследования выявили несколько ИЛ, которые необходимо преодолеть для увеличения адаптивности населения к указанным бедствиям: захват экологических программ техническими элитами; одноуровневая или централизованная концентрация спасательного потенциала; организационная фрагментация и чрезмерное внимание к реактивному управлению кризисами. Для выхода из перечисленных ИЛ авторы сформулировали ряд конструктивных управленческих рекомендаций (Lebel, Manuta, Garden, 2010), однако само понятие используется ими как набор препятствий для перехода в более предпочтительное состояние, что не обладает необходимой строгостью в российском понимании.
Подобные примеры можно продолжать, однако, на мой взгляд, сказанного достаточно, чтобы показать, что понятие ИЛ вошло в международный научный лексикон, хотя зачастую с характерными искажениями смысла и расширенной трактовкой. Может показаться, что данный термин пользуется популярностью только у исследователей, занимающихся развивающимися странами, тогда как научная элита передовых государств прекрасно обходится без него. Однако и это не совсем так. Дело в том, что обзорная статья по ИЛ, написанная автором этого термина В. Полтеровичем, вошла в The New Palgrave Dictionary of Economics 2007 года (Polterovich, 2007). Напомним, что данный словарь является элитным изданием, которое в 2018 году представляло собой 20–томный справочный труд по экономике, содержащий около 3 тыс. статей, включая многие классические эссе наиболее выдающихся экономистов, среди которых 36 лауреатов Нобелевской премии по экономике [1]. Тем самым эксперты издания The New Palgrave Dictionary of Economics не посчитали термин ИЛ бессмысленным и сочли его вполне достойным для включения в арсенал рабочих понятий экономической науки. Однако справедливости ради следует отметить, что в экономических западных статьях, посвященных проблемам развитых стран, термин ИЛ напрямую используется крайне редко. На мой взгляд, это связано с двумя обстоятельствами: первое – западные экономисты часто используют англоязычные заменители данного понятия; второе – изначально термин ИЛ был предназначен для описания аномальных эффектов в «проблемных» – постсоциалистических – странах, что неявно предполагает его дальнейшее использование именно для отстающих в экономическом отношении государств. Данная традиция отражает определенную консервативность научного истеблишмента Запада, но не исключено, что со временем ситуация может измениться.
3. Понятие ИЛ – вербальные и формальные составляющие
Прежде чем разбирать термин ИЛ, остановимся на двух важных методологических моментах. Дело в том, что, по справедливому замечанию В. Полтеровича, экономическая наука развивается посредством введения новых терминов и установления взаимосвязей между ними. Тем самым сущностью или ядром экономической науки являются именно термины и понятия, а не модели и изощренный математический инструментарий. Очень точно по этому поводу высказался П. Кругман: «уравнения и диаграммы формализованной экономической теории обычно выступают в качестве своего рода строительных лесов, необходимых, чтобы воздвигнуть интеллектуальное сооружение. После того как оно до определенного уровня построено, леса убирают, а описание сущности конструкции излагают самым простым и доступным языком» (Кругман, 2009, с. 19–20). Из сказанного не вытекает, что экономическая наука ограничивается словесной эквилибристикой, однако ее основой все-таки выступают термины, понятия, идеи, принципы и категории. И в этом смысле новые институциональные понятия, введенные В. Полтеровичем (в том числе и ИЛ), создают основу для дальнейшего более глубокого понимания происходящих экономических процессов.
Второй момент состоит в том, что экономическая наука не останавливается на самых общих вопросах, а старается применить свой аналитический арсенал в виде понятий, идей и принципов для последующей конкретизации отдельных тезисов и положений. В этой связи характерно высказывание Д. Родрика: «Экономика использует не одну универсальную модель, а набор различных моделей. Развиваясь, эта научная дисциплина расширяет библиотеку моделей и добивается все большего соответствия моделей и реальности. Разнообразие моделей в экономике необходимо в условиях изменчивого социального мира. Экономисты едва ли когда–либо создадут универсальные модели, пригодные для любых обстоятельств» (Родрик, 2017, с. 19). Поэтому, по мнению Родрика, экономисты «…должны тщательно отбирать модели в соответствии с изменением обстановки или при переходе от одной ситуации к другой. Они должны наиболее гибко переключаться между моделями» (Родрик, 2017, с. 19).
Таким образом, экономическая наука состоит из двух сегментов: первый является совокупностью ключевых терминов, понятий, идей, принципов и категорий, а второй представляет собой своеобразную гирлянду конкретных моделей, основанных на понятиях из первого сегмента. Если использовать язык аналогий, то можно сказать, что сегмент идей образует относительно стабильную часть – ядро науки, которая со временем медленно увеличивается, тогда как сегмент моделей – переменную часть или периферию, где число моделей почти необозримо, некоторые из них постоянно выбывают, а другие – пополняют пресловутую гирлянду (библиотеку).
Учитывая сказанное, рассмотрим, насколько научным является понятие ИЛ. Авторское определение гласит: «Неэффективную устойчивую норму (неэффективный институт) будем называть институциональной ловушкой» (Полтерович, 1999, с. 11). Вне всякого сомнения, это довольно общее определение, однако автор постоянно подчеркивает, что неэффективность понимается в смысле отсутствия Парето–эффективности, т.е. имеется другая норма (институт), который способен улучшить положение некоторых участников, не ухудшая его ни для кого. Что касается устойчивости, то под ней подразумевается то, что незначительные усилия по переходу к более эффективной норме (институту), как правило, не дают результата и система возвращается к исходному неэффективному состоянию. Здесь имеется определенная аналогия с равновесием по Нэшу в широком смысле слова, т.е. ни один из участников рынка не может увеличить свою выгоду благодаря изменению своего поведения, если другие участники продолжают придерживаться своих стратегий. Главное же, что характерно для ИЛ – это наличие, по крайней мере, двух институциональных альтернатив. При этом понятие эффективности трактуется довольно широко. Однако здесь нет никакого противоречия, ибо речь идет о применении общего понятия к конкретным случаям.
Приведенное определение ИЛ соответствует всем критериям научной строгости для вербальных конструкций. Иными словами, на словесном уровне понятие ИЛ определено максимально корректно; все возможные уточнения могут быть сделаны для конкретных ситуаций и модельных построений. Заметим, что понятия устойчивости и равновесия на вербальном уровне всем хорошо понятны и в этом смысле понятие ИЛ является корректным. В конкретных же математических конструкциях эти понятия предполагают разное определение. Например, равновесие может быть статическим, динамическим, равновесием солнечных пятен, равновесием по Нэшу и т.п., эффективность же может измеряться с помощью разных показателей как на микро– (уровень трансакционных затрат, величина дохода и т.п.), так и на макроуровне (уровень производства в стране, функциональность системы, общественная полезность и т.п.). Следовательно, не переходя к конкретным математическим моделям, повысить строгость понятия ИЛ нельзя. Однако отсюда не вытекает, что обобщенный термин ИЛ является нестрогим или некорректным; просто он предполагает проявление математической строгости уже в рамках конкретных моделей, о чем подробнее будет сказано ниже. Именно в этом пункте я не могу согласиться с А. Верниковым – понятие ИЛ является настолько строгим, насколько это вообще возможно на вербальном уровне, и весьма плодотворным при рассмотрении частных примеров и моделей. Само же появление нового термина – ИЛ – в экономической науке, безусловно, ее обогащает, делая акценты на важных и ранее игнорируемых аспектах функционирования социальной системы.
Теперь несколько слов о «субъектности» ИЛ и ее связи с теорией заговора (Верников, 2020, с. 30). Дело в том, что сам термин «ловушка» отнюдь не влечет за собой обязательное наличие «ловца». В этом смысле А. Верников справедливо указывает на одну из трактовок ловушки по словарю С. Ожегова: опасное место, где можно погибнуть (Верников, 2020, с. 31). ИЛ, существующая достаточно долгое время, действительно представляет опасность для экономической системы и вполне способна привести ее к краху. Но сами ИЛ могут формироваться как преднамеренно, так и непреднамеренно. В первом случае действительно предполагается злонамеренный субъект и заговор с такими же враждебными для страны управленцами, во втором – может действовать огромное число причин без умышленного вредительства с чьей–либо стороны (управленческие ошибки, недоучет некоторых обстоятельств, избыточная бюрократия, наложение неучтенных факторов и т.п.). На мой взгляд, здесь уместна аналогия между понятиями «ловушка» и «травма». Травма является нежелательным (неэффективным!) состоянием по сравнению с идеальным здоровьем (альтернатива!); травму легко получить, но зачастую трудно вылечить (устойчивость!). Но саму травму может нанести посторонний человек (субъективность!), а может она возникнуть и самостийно в результате стечения неблагоприятных обстоятельств (например, человек по невнимательности споткнулся, ему на голову упал кирпич, он занимался экстремальным видом спорта и т.п.) (объективность!). В связи со сказанным очевидно, что ИЛ совершенно необязательно и даже, наоборот, весьма редко бывает связана с заговором. В любом случае такого рода ситуации экономическая теория не рассматривает, ибо это уже прерогатива правоохранных структур.
Теперь попытаемся опровергнуть лемму А. Верникова, которая звучит следующим образом: «В современной России нет экономического или общественного явления, которое нельзя было бы объявить «институциональной ловушкой»» (Верников, 2020, с. 28). Тем самым автор утверждает, что понятие ИЛ настолько общо, что под него подходит любое социальное явление, следовательно, и само это понятие неконструктивно.
Не стремясь осуществить тотальное опровержение приведенной леммы, сосредоточим внимание на нескольких наиболее ярких контрпримерах, показывающих ошибочность сформулированного тезиса.
Первый пример связан с так называемой ловушкой ликвидности, под которой понимается макроэкономическая ситуация, когда монетарные власти не имеют инструментов для стимулирования экономики ни посредством снижения процентных ставок, ни через увеличение денежного предложения [2]. Считается, что ловушка ликвидности возникает, когда ожидания негативных событий заставляют людей увеличивать запасы ликвидности. Как ни странно, но данное классическое понятие экономической теории, имея адекватное название и даже неся в себе слово «ловушка», не относится к разряду ИЛ. Мы уже отмечали, что попадание в ловушку предполагает и альтернативное состояние, и возможное освобождение из нее. Однако в случае ловушки ликвидности мы имеем только один режим – регулятивный паралич монетарных властей. Альтернативы здесь нет; впоследствии велись интенсивные исследования, которые показали, что эмиссия денег все-таки способна активизировать экономику, однако в изначальной формулировке этого не предполагалось. В связи со сказанным можно было бы назвать явление, получившее название ловушки ликвидности, институциональным тупиком, ибо никакой регулятивной (институциональной) развилки здесь не предполагается. Тем самым в случае с ловушкой ликвидности мы имеем вполне адекватное название, но само явление не относится к разряду ИЛ. В современной терминологии ловушка ликвидности представляет собой, скорее, пример дисфункции института (ДИ), к которому мы еще вернемся.
Второй пример связан с не менее известным феноменом, получившим название мальтузианской ловушки, под которой понимается ситуация, в результате которой рост населения либо происходит синхронно с ростом производства продуктов питания, либо опережает его. Часто мальтузианскую ловушку называют также ловушкой бедности, ибо средний уровень жизни населения при данном режиме не растет. При достижении критической плотности населения и падения и без того низкого уровня жизни возникают стихийные депопуляции в форме войн, эпидемий и голода [3]. Однако и в этом случае рассматриваемое явление не является ИЛ. Дело в том, что мальтузианская ловушка существовала на протяжении примерно 10 тыс. лет не по субъективным причинам, а из-за того, что у нее просто–напросто не было альтернативного режима развития. Приемлемая альтернатива появилась только в Новое время, когда стартовали накопление капитала, технологический прогресс и экономический рост. Можно было бы мальтузианскую ловушку назвать синдромом бедности, т.к. в своем нынешнем названии она невольно провоцирует неправомерное отождествление с ИЛ.
Приведенные классические примеры показывают, что имеется большое число общественных феноменов, не являющихся ИЛ. В случае современных исследований российских институционалистов ситуация еще драматичнее: огромное число явлений, получивших название ИЛ, таковыми не являются. В статье А. Верникова приведен ряд поистине удивительных и совершенно нелепых примеров некорректного применения термина ИЛ.
Теперь несколько слов по поводу риторического вопроса А. Верникова о том, действительно ли слово «ловушка» лучше описывает и объясняет институциональную динамику, чем другие термины (например, «конфликт», «дисфункция», «деградация», «нецелевое использование», «мутация», «захват» и т.д.)? (Верников, 2020, с. 31). Ответ на этот вопрос является однозначно положительным. Например, термины «дисфункция», «деградация» и «мутация» носят явно эволюционное звучание, т.е. речь идет о самостийном изменении институтов с течением времени. Словообразования «нецелевое использование» и «захват» изначально описывают нарушение институциональных правил и высвечивают совершенно иной срез человеческой деятельности. Понятие же ИЛ предназначено преимущественно для описания переходных процессов и, как правило, связано с активным действием регулятора, с проводимыми им реформами. При этом смысловая экономическая нагрузка ИЛ гораздо больше, чем в альтернативных терминах, ибо оно оперирует процедурой рационального выбора экономического агента, как правило, без нарушения закона.
Углубляя вышесказанное, укажем, что некорректное использование термина ИЛ часто связано с двумя другими популярными понятиями – ДИ и эффект «блокировки» (lock-in – LI). По этому поводу А. Верников пишет, что метафора «ловушка» не раскрывает этиологию (причину) проблемы – например, дисфункцию института, его деградацию, отторжение, рассогласованность и конфликт между институтами (Верников, 2020, с. 32). Действительно, в научной литературе очень часто присутствует расширительная трактовка ИЛ как ДИ, т.е. его заведомая неэффективность. В этом случае они выступают в качестве синонимов, что в корне неверно. В связи с этим В. Полтерович в свое время очень аккуратно развел данные понятия: если термин «ИЛ» характеризует неэффективность одного равновесного института по сравнению с другим, то термин «ДИ» раскрывает его неэффективность по сравнению с неким идеалом или «стандартом» (Полтерович, 2007, с. 91). Таким образом, ДИ предполагает наличие института-инвалида, который в силу своей низкой функциональности может порождать альтернативный институт и тем самым способствовать возникновению ИЛ. Однако различие между двумя понятиями очевидно: в условиях ИЛ действует два равновесных реальных института – эффективный и неэффективный; ДИ требует присутствия одного реального неэффективного института наряду с наличием одного виртуального эффективного института (проектируемого идеала). Следовательно, методологических оснований для смешивания понятий ИЛ и ДИ не имеется.
Заметим, что отождествление понятий ИЛ и ДИ является наиболее часто встречающейся и самой «опасной» ошибкой. Дело в том, что в таких случаях как раз и получается казус, когда любой неэффективный институт неправомерно объявляется ИЛ. Как ни странно, но этот аспект проблемы был довольно основательно рассмотрен в литературе, в частности, были выделены четыре типа ДИ: атрофия и перерождение института; активизация альтернативных институтов и отторжение; институциональный конфликт; парадокс передачи (Полтерович, 2001). ДИ часто ведет к образованию ИЛ, но не тождественна ей.
Несколько иная ситуация обстоит с другим конкурирующим термином ИЛ – LI. Это понятие было введено Б. Артуром для исследования технологической эволюции (Arthur, 1994), которая, как будет показано ниже, во многом идентична институциональной эволюции. Впоследствии Д. Норт применил этот термин для отражения зависимости институциональной структуры от предыдущего пути развития, хотя его строгого определения он так и не дал (Полтерович, 2007, с. 88). В трактовке Д. Норта термин LI имеет слишком широкое звучание в качестве эффекта, когда «однажды принятое решение трудно изменить» (North, 1997, с. 122). Следовательно, утверждать, что понятия ИЛ и LI являются полными эквивалентами, никак нельзя. Наоборот, скорее всего, LI представляет собой пресловутое неэффективное состояние, альтернативы которому нет, в связи с чем и выйти из него нельзя; дальнейшие действия по устранению состояния LI в литературе, как правило, не рассматриваются.
Таким образом, понятие ИЛ не обладает никакими экстраординарными изъянами, чтобы вводить исследователей в заблуждение. Просто-напросто, как и любой специальный термин, он должен использоваться адекватно, а это уже является сферой ответственности экспертного сообщества, которое должно следить за «чистотой» научного аппарата. В целом же следует признать, что понятие ИЛ является одновременно и строгим научным термином, и красивой метафорой, что и позволило ему стать популярным в среде экономистов и социологов. Причем одно другому не противоречит, а, наоборот, дополняет и усиливает общий эффект.
4. Корректность использования термина
Звучность и эффектность термина ИЛ сыграли с ним злую шутку, о которой справедливо говорит А. Верников: его начали бездумно использовать все, кто оказался падок на красивую метафору. Однако в основе кажущейся гипертрофии популярности научного термина лежит еще одна причина, о которой, как правило, не принято говорить. Дело в том, что в России довольно быстро распространилось почти болезненное пристрастие многих экономистов и социологов к институционализму. На мой взгляд, это объясняется довольно просто: институциональное направление представляет собой гуманитарное ответвление экономической науки, которое до недавнего времени было довольно слабо затронуто инструментарием мейнстрима. В институционализме большое значение имеет не математическое моделирование, а глубокий анализ норм и понятий на стыке юриспруденции, истории, психологии, политологии и экономики. Хотя изначально этого не предполагалось, но институционализм в своих худших проявлениях позволяет бесконечную игру слов, придумывание новых терминов и разнообразных классификаций, нудное обсуждение исторических примеров, что выглядит наукообразно, но содержания в себе не несет. В России же традиционно экономико–математическое направление было представлено не так широко, как на Западе, в связи с чем экономисты, имеющие слабую математическую подготовку и не имеющие практического опыта, нашли себя в институционализме. Однако их изначально низкая квалификация привела к тому, что институциональная тематика начала «захламляться» научным суррогатом. Не удивительно, что и термин ИЛ «попал под раздачу»: им начали пользоваться с такой вольностью и извращенностью, что произошла дискредитация изначального понятия. На поверхности это проявилось в «тотальности» феномена ИЛ и, как справедливо отмечает А. Верников, в спекулятивных наслоениях и порождении лишних сущностей (Верников, 2020, с. 28).
Пытаясь пояснить свою мысль, обращусь к статье Г. Клейнера и соавторов, в которой они рассматривают фирму как субъект управления и институт общества (Клейнер, Пресняков, Карпинская, 2018). Любая организация как некая материальная целостность является хозяйственным участником, однако ее можно рассматривать и как совокупность институтов (правила функционирования фирмы и ее элементов). Разумеется, любую компанию можно изучать в разных ракурсах, в том числе и в институциональном, однако такая расширительная трактовка института является первым шагом к тому, чтобы любое социальное явление рассматривать как институт. Разумеется, указанная интерпретация института не может считаться ошибочной, но она показывает, как происходит расширение изначально довольно простого и определенного термина до уровня «всеобщей универсалии», удобной для последующих аналитических злоупотреблений.
Аналогичный генезис имеет место и при обращении с термином ИЛ. Для этого рассмотрим пример, приведенный А. Верниковым: «Институтам, способствующим инновационному развитию, противостоят институты, препятствующие инновационному развитию, и пока вторые оказываются сильнее. Назовем их «институциональными ловушками инновационного развития», используя термин, предложенный В.М. Полтеровичем для подобного рода деструктивных обстоятельств…» (Малкина, 2011, с. 51). В данном случае имеет место простая игра слов без их глубинного понимания. Инновационные институты – это институты (т.е. правила взаимодействия участников рынка), способствующие инновационному развитию. Антипода у них нет. Иными словами, либо в стране есть инновационные институты, либо их нет, либо они есть, но неэффективные. Но никто не придумывает и не создает специально институты, препятствующие инновационному развитию, а все институты, как известно, являются рукотворными. Это не означает, что в реальной жизни нет препятствий для инноваций, но их нельзя назвать инновационными институтами. В данном случае устранение препятствий для инновационного развития равнозначно созданию или улучшению инновационных институтов. Вне всякого сомнения, «институциональные ловушки инновационного развития» – это типичный оксюморон. Однако, учитывая чисто гуманитарный стиль подобных изысканий, указанная ошибка коробит специалистов, но никакого серьезного вреда не несет.
Вместе с тем в России уже сложилась и вполне здоровая традиция рассмотрения ИЛ. Например, большую популярность в российском научном дискурсе получили ИЛ в сфере высшего образования (Балацкий, 2008; Балацкий, 2017; Вольчик, 2011; Вольчик, Корытцев, Маслюкова, 2018; Вольчик, Маслюкова, 2019; Вольчик, 2019; Вольчик, Ширяев, 2020). Присоединяются к этому направлению и коллеги из Беларуси в силу схожести происходящих в двух странах процессах (Чепиков, 2010). Столь пристальное внимание к указанной сфере связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, университетская система России постоянно реформировалась и делалось это крайне неудачно. Во-вторых, многие экономисты институциональной направленности работают в вузах и изнутри видят все нюансы ошибок проводимых образовательных и научных реформ. Во всех перечисленных работах рассматриваются альтернативы неэффективным институтам, причем эти альтернативы, как правило, сосуществуют на фоне ИЛ. Такого рода предложения могут быть полезны реформаторам, если они, конечно, заинтересованы в успешных реформах. В этом смысле грамотный анализ ИЛ имеет не только и не столько(!) теоретическую ценность, сколько практическую, состоящую в отказе от неэффективной нормы в пользу более продуктивной.
Теперь два слова по поводу замечания А. Верникова о том, что, «судя по частоте упоминания «институциональных ловушек» в наших научных текстах, русская земля столь же богата «ловушками», как и прочими природными ресурсами. Но одновременного нахождения в стольких настоящих ловушках не пережила бы ни одна экономика мира» (Верников, 2020, с. 33). Первую часть цитаты я воспринимаю как утверждение. Действительно, все предыдущие 30 лет Россия, с одной стороны, находилась в состоянии перманентных реформ, а с другой – демонстрировала чудеса неэффективного управления и ошибок на всех уровнях принятия решений. Только обилием пресловутых ИЛ можно объяснить, каким образом одно из самых могущественных государств в мире – СССР – превратилось в сырьевой придаток мировой экономики – Российская Федерация, лишенный экономического суверенитета и без заметного экономического и технологического прогресса. Ситуация удручающая, но в этом нет вины термина ИЛ; это специфика нашего времени и испытание российского народа на выживаемость. Вторую часть цитаты А. Верникова я интерпретирую как предупреждение. Россия действительно трещит под грузом накопленных ИЛ, но пока держится. Однако это не значит, что так будет вечно. Предел прочности есть и очень не хотелось бы воочию лицезреть его – как в случае с СССР. А для этого надо избавляться от ИЛ, а не отрицать их как реальное явление и не воспринимать их в качестве несуществующего фантома.
5. От вербального понятия к моделям
Понятие ИЛ достаточно строго проявляет себя в конкретных модельных построениях. Для иллюстрации возьмем модель бартерной ловушки (Полтерович, 2007). В ней рассматриваются два альтернативных института – бартерный обмен продуктами между фирмами и монетарный (денежный) обмен между ними. В этом случае анализ предполагает выбор предприятиями определенной институциональной стратегии, среди которых есть две чистые, когда фирмы полностью переходят на бартерные или монетарные расчеты с контрагентами, и смешанные, когда компании могут часть продукции реализовывать по монетарной, а часть – по бартерной схеме. При этом трансакционные издержки бартерных операций убывают по мере увеличения участников и объемов продукции в рамках данного типа торговых сделок, тогда как трансакционные издержки монетарных операций, наоборот, увеличиваются. Данная гипотеза формальным образом учитывает эффект координации. Тогда игровая модель сводится к минимизации участниками рынка всего объема их трансакций между двумя институциональными технологиями в зависимости от выбора ими доли продаж по бартеру. В такой модели в общем случае имеет место три точки (решения) равновесия: две из них представляют чистые стратегии (монетарное равновесие, когда все придерживаются денежных расчетов, и бартерное равновесие, когда все придерживаются бартерного обмена), а одна – смешанную (часть операций осуществляется в бартерной форме, а часть – в денежной). При этом чистые стратегии являются устойчивыми равновесиями по Нэшу, т.к. отклонение от них любому участнику невыгодно при условии, что остальные субъекты продолжают придерживаться их. Смешанное равновесие, наоборот, является неустойчивым, т.к. изменение каким-либо игроком своей стратегии меняет величину трансакционных издержек каждого участника таким образом, что им становится выгодно последовать за отклонившимся. Так как издержки игроков в чистом монетарном равновесии меньше издержек в чистом бартерном равновесии, то и сам институт бартера является неэффективным по сравнению с монетарным институтом. А коль скоро институциональная бартерная стратегия характеризуется неэффективностью и устойчивостью, то она выступает в роли классической ИЛ (Полтерович, 2007, с. 103).
Таким образом, при переходе от вербальных терминов к их конкретизации в рамках даже самых простых моделей проявляется математическая строгость каждого институционального понятия, в том числе и ИЛ. Выше мы привели наиболее простой и наглядный пример, однако при желании число подобных моделей можно продолжить. Наиболее известными из них являются: модель неплатежей Кальво–Коричелли (Calvo, Coricelli, 1994), модель теневой экономики Джонсона–Кауфмана–Шляйфера (Johnson, Kaufmann, Shleifer, 1998), модель дезорганизации Бланшара–Кремера (Blanchard, Kremer, 1996), модель коррупционной ловушки (Полтерович, 2007), модель «Война на истощение» (Полтерович, 2007), модель парадокса коллективных фирм (Полтерович, 2007) и др. Сама способность понятия ИЛ строить содержательные модели говорит о его достаточной строгости и плодотворности.
6. От понятия к теориям
Термин ИЛ изначально появился не просто как очередной научный неологизм, но, прежде всего, как элемент соответствующей теории – ТИЛ, в которой были рассмотрены все основные механизмы образования и закрепления ИЛ, а также совокупность других терминов, позволяющих увязать между собой все рассматриваемые эффекты (Полтерович, 1999). Впоследствии достойное внимание было уделено и проблеме выхода из ИЛ (Полтерович, 2004). Еще позже ТИЛ была встроена в более общее научное направление – в теорию реформ (Полтерович, 2007). Все это свидетельствует о работоспособности введенного термина.
Однако мне хотелось бы обратить внимание еще на один момент – ТИЛ получила развитие в разных и порой неожиданных направлениях. Я не могу здесь охватить все аспекты данного вопроса, а потому сосредоточусь на том, что мне ближе и к чему я имею непосредственное отношение.
В 2002 году такие понятия, как трансакционные и трансформационные издержки, темпы экономического роста, величина дисконта и горизонт планирования были увязаны в рамках единой аналитической схемы (Балацкий, 2002). С ее помощью был получен важный результат – доказано, что выходу из ИЛ способствуют высокие темпы экономического роста и большой горизонт планирования. И если темпы роста ВВП с трудом поддаются прямому регулированию, то параметр горизонта планирования полностью находится в компетенции правительственных структур. Однако именно отсутствие долгосрочных планов на протяжении всей истории Российской Федерации приводило к высокой неопределенности будущего и снижало институциональную и технологическую восприимчивость национальной экономики. Тем самым от отдельного термина ИЛ был осуществлен переход к полноценной ТИЛ, подкрепленной своеобразной экономической философией. Отрицать термин ИЛ – значит отрицать всю ТИЛ, что совершенно неконструктивно и бессмысленно.
В 2003 году было обнаружено, что модельный формализм, созданный в 2002 году для институтов, полностью переносится на процесс замены производственных технологий: для этого достаточно вместо трансакционных издержек рассматривать текущие производственные издержки, а вместо трансформационных издержек – капиталовложения (Балацкий, 2003). Благодаря этому появился термин «технологическая ловушка» (ТЛ) и соответствующая теория ТЛ (ТТЛ). Таким образом было показано, что процессы смены институтов и технологий имеют одну и ту же природу, описываются одинаковыми уравнениями, а сама экономическая теория является внутренне более цельной и полной, чем это считалось раньше.
В дальнейшем ТТЛ позволила исследовать явление технологической диффузии, а главное – решить задачу об идентификации технологической границы (Балацкий, 2012). Напомним, что технологическая граница (ТГ) представляет собой некую величину относительной производительности труда (например, России к США), которая обладает важным индикативным свойством: если фактическая относительная производительность труда меньше величины ТГ, то стране целесообразно заимствовать технологии; в противном случае следует переходить к разработке собственных инноваций. Это положение имеет огромное значение для России, если учесть, что во время правления Президента РФ Д. Медведева был взят курс на построение инновационной экономики на низкой технологической базе, что и привело к краху данной доктрины. Примечательно, что в настоящее время указанная регулятивная ошибка в разных формах и аранжировках имеет тенденцию к повторению.
Все перечисленные научные достижения оказались возможны благодаря появлению термина ИЛ, а также основанной на нем ТИЛ. «Выбрасывание» данного понятия из экономического оборота равносильно выбрасыванию всего того, что было сделано позже на его основе. Вряд ли такая жертва может быть чем-то оправдана.
7. Заключение
Подводя итог дискуссии с А. Верниковым, расставим все точки над i.
Во-первых, термин ИЛ одновременно обладает свойствами научной строгости и метафоричности, что в существенной мере повлияло на его популярность среди российских экономистов, а отчасти – и зарубежных. Более того, данный термин инициировал целый ряд новых теорий, моделей и концепций, которые сами по себе являются значимыми достижениями. В связи с этим никакого отказа от термина ИЛ не требуется и уж тем более недопустимо вводить запрет на его употребление в научных изданиях и учебных программах.
Во-вторых, в науке нет автоматических гарантий от неправильного употребления даже самого строгого термина; именно это и произошло с ИЛ. Большое число российских экономистов стало специализироваться на институциональном анализе, но многие из них делают это крайне поверхностно, что и приводит к неправомерному «размножению» ИЛ, которые таковыми не являются. Было бы верхом несправедливости «наказать» пресловутый термин и его автора путем введения моратория на его употребление в научных и учебных изданиях. Мне представляется, что ответственность должна возлагаться на тех, кто сознательно (в спекулятивных и коммерческих целях) или неосознанно (из-за нехватки квалификации) неверно применяет термин ИЛ. Для этого следует активнее использовать экспертов на стадии рецензирования статей и не допускать терминологических искажений. Однако это уже вопрос научной культуры, которая в предыдущие десятилетия была изрядно исковеркана в нашей стране.
И последнее. Я в течение некоторого времени задавал своим коллегам провокационный вопрос: какая разработка в экономической науке XXI века является, по Вашему мнению, самой значимой и интересной? Подавляющее большинство опрашиваемых затруднялось с ответом. Похоже, что даже работы, за которые присуждают Нобелевские премии по экономике, уже не впечатляют научную общественность и не дают качественно нового понимания мира. С связи с этим напомним крылатую фразу В. Ленина, высказанную в 1912 году в статье «Памяти Герцена»: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа» (Ленин, 1980). Перефразируя В. Ленина, можно сказать: Страшно далека экономическая наука от народа и практических потребностей хозяйства. На этом фоне интеллектуальной дезориентации экономистов я бы дал такой ответ на сформулированный выше вопрос: в экономической науке XXI века одним из наиболее плодотворных научных направлений стала теория реформ и входящие в нее ТИЛ и ТТЛ. Данное направление включает в себя как теоретические, так и прикладные разработки. Взгляд на социальный мир, в котором существуют различные экономические ловушки, которые мешают развитию общества и могут быть ликвидированы путем проведения адекватных реформ, является по-настоящему оригинальным, интригующим и полезным.
Список литературы
Балацкий Е.В. (2012). Институциональные и технологические ловушки: анализ идей // Журнал экономической теории, 2, 48–63.
Балацкий Е.В. (2003). Экономический рост и технологические ловушки // Общество и экономика, 11, 53–76.
Балацкий Е.В. (2002). Функциональные свойства институциональных ловушек // Экономика и математические методы, 38(3), 54–72.
Балацкий Е.В. (2012). Технологическая диффузия и инвестиционные решения // Журнал Новой экономической ассоциации, 3(15), 10–34.
Балацкий, Е. В. (2008). Формирование «диссертационной ловушки» // Экономика образования, 4, 149–160.
Балацкий Е.В. (2017). Ловушка аудиторных часов и новая модель образования // Высшее образование в России, 2, 63–69.
Верников А.В. (2020). «Институциональная ловушка»: научный термин или красивая метафора? // Journal of Institutional Studies, 12(2), 25–37.
Вольчик В.В. (2019). Институциональные ловушки в сфере образования и науки в условиях оптимизации // Журнал экономической теории, 16(4), 783–795.
Вольчик В.В. (2011). Институциональные ловушки и оппортунистическое поведение в процессе размещения государственных заказов // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая, 39–1, 17–26.
Вольчик В.В., Корытцев М.А., Маслюкова Е.В. (2018). Институциональные ловушки и новый менеджеризм в сфере образования и науки // Управленец, 9(6), 17–29.
Вольчик В.В., Маслюкова Е.В. (2019). Реформы, неявное знание и институциональные ловушки в сфере образования и науки // Terra Economicus, 17(2), 146–162.
Вольчик В.В., Ширяев И.М. (2020). Дистанционное высшее образование в условиях самоизоляции и проблема институциональных ловушек // Актуальные проблемы экономики и права, 14(2), 235–238.
Клейнер Г.Б., Пресняков В.Ф., Карпинская В.А. (2018). Поведение предприятия в моделях теории фирмы. Часть 1 // Экономическая наука современной России, 2, 7–23.
Кругман П. (2009). Возвращение Великой депрессии? Мировой кризис глазами нобелевского лауреата. М., Эксмо.
336 с.
Ленин В.И. (1980). Памяти Герцена. М.; Политиздат. 15 с.
Малкина М.Ю. (2011). Институциональные ловушки инновационного развития российской экономики // Журнал институциональных исследований, 3(1), 50–60.
Полтерович В.М. (1999). Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы, 35(2), 3–20.
Полтерович В.М. (2003). Теория экономических реформ // Экономика и математические методы, 35(2), 3–19.
Полтерович В.М. (2001). Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России,
№ 3, 24–50.
Полтерович В.М. (2007). Элементы теории реформ. М.: Издательство «Экономика». 447 с.
Полтерович В.М. (1998). Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России, 1, 46–66.
Полтерович В.М. (2004). Институциональные ловушки: есть ли выход? // Общественные науки и современность, 3, 5–16.
Родрик Д. (2017). Экономика решает: сила и слабость «мрачной науки». М.: Изд-во Института Гайдара. 256 с.
Чепиков М.Ю. (2010). Институциональные ловушки бизнес–образования в Республике Беларусь и пути выхода / Материалы IX Международной научно–практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования», 8–9 апреля 2010 г., Минск, 1–3.
Arthur W.B. (1994). Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Ann Arbor The University of Michigan Press. 224 p.
Blanchard O., Kremer M. (1996). Disorganization // Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1091–1126.
Buzar S. (2009). The Institutional Trap in the Czech Rental Sector: Nested Circuits of Power, Space, and Inequality // Economic Geography, 81, 381–405.
Calvo G.A., Coricelli F. (1994). Inter–enterprise Arrears in Economies in Transition / Output Decline in Eastern Europe. Unavoidable, External Influence or Homemade? Luxemburg, IIASA, 193–212.
Delaila S., Zondi S. (2020). The Security, Governance and Development Nexus in NEPAD: A Case Analysis (https://www.researchgate.net/publication/339228786_The_Security_Governance_and_Development_Nexus_in_NEPAD_A_Case_
Analysis - - Access Date: 02.08.2020).
Gradstein M. (2008). Institutional Traps and Economic Growth // International Economic Review, 49(3), 1043–1066.
Hatzis A.N. (2018). Greece's institutional trap // Managerial and Decision Economics, 39(8), 838–845.
The International Bank for Reconstruction and Development. (2008). Institutional pathways to equity: addressing inequality traps. 255 p.
Johnson S., Kaufmann D., Shleifer A. (1998). The Unofficial Economy in Transition // World Economic Outlook, 159–239.
Lebel L., Manuta J.B., Garden P. (2010). Institutional traps and vulnerability to changes in climate and flood regimes in Thailand // Regional Environmental Change, 11(1), 45–58.
North D. (1997). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New York, Cambridge University Press. 252 p.
Olanya D.R. (2016). Governance, aid and institutional traps. Chapter 3 in State, Governance and Development in Africa, University of Capetown Press, 58–72.
Polterovich V. (2007). Institutional Trap / In New Palgrave Dictionary of Economics, 1–16.
[1] См.: The New Palgrave Dictionary of Economics /
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Palgrave_Dictionary_of_Economics
[2] Ловушка ликвидности/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ловушка_ликвидности Дата обращения: 14.08.2020.
[3] См.: Мальтузианская ловушка/ https://ru.wikipedia.org/wiki/Мальтузианская_ловушка Дата обращения: 14.08.2020.
Официальная ссылка на статью:
Балацкий Е.В. «Институциональная ловушка»: научный термин и красивая метафора // «Journal of Institutional Studies», Т. 12, № 3. С. 24–41.